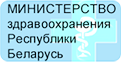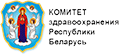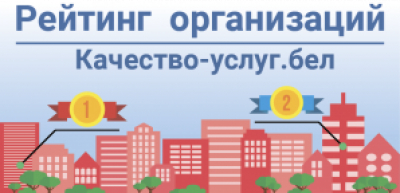Рядом с учителем Александром Дзядзько (крайний слева), напарником Андреем Миновым и старшей медсестрой отделения Виолеттой Виноградовой. Фото предоставлено 9 ГКБ Минска.
Памяти заведующего отделением анестезиологии и реанимации № 2 (хирургия) РНПЦ трансплантации органов и тканей на базе 9-й ГКБ Минска
Каждое утро старшая медсестра отделения Виолетта Виноградова прислушивается: вот-вот зазвенят ключи, через пару минут раздастся гул кофе-машины, стремительной походкой по коридору пройдет заведующий, заглянет в сестринскую и спросит весело:

— Привет! Все хорошо? Кофе будешь?
И обязательно посмотрит, нет ли чего вкусного: мимо сладостей Оганесович, как звали его многие коллеги, пройти не мог.
Эти слова стали такими привычными за 8 лет. К сожалению, после 14 июня 2016 года они больше не прозвучат.
…Бессонная ночь у постели пациента — в тяжелом состоянии поступила шестикилограммовая девочка после пересадки печени. Евгений Сантоцкий привык не щадить себя. Проведя у постели ребенка всю ночь, смог добиться улучшения состояния. Глаз не сомкнул — наступил новый рабочий день, а у заведующего отделением анестезиологии и реанимации всегда хватает забот. И большинство проблем — на острие жизни и смерти.
Сложно сказать, да и не так уж важно, как и почему случилась страшная авария. Усталость, случай, рок. Но в тот злополучный вторник на трассе в Воложинском районе Беларусь потеряла одного из самых перспективных анестезиологов-реаниматологов, прекрасного человека, любящего мужа и замечательного отца девятилетнего сына.
Евгению Оганесовичу было 36 лет. Ему удалось достичь в профессии такой высоты, которую многим его коллегам только предстоит покорять.
Не успел защитить кандидатскую диссертацию, опубликовать монографию. Но сумел стать в своей специальности лидером.
Потеря всколыхнула все врачебное сообщество республики, русскоязычную анестезиологическую среду по всему миру.
Костел Святых Симеона и Елены не вместил всех желающих проводить Евгения Сантоцкого в последний путь. Проститься с талантливым врачом приехали почти 600 человек со всей Беларуси и из-за границы: коллеги, родные, друзья, пациенты. Сообщения и звонки с соболезнованиями сыпались десятками: из постсоветских стран, Германии, США...
Победа энтузиазма
2007 год. К старательному и инициативному парню Александр Дзядзько, тогда еще заведующий отделением анестезиологии и реанимации 9-й ГКБ Минска, присматривался особенно тщательно. В больнице формировалась первая в республике команда трансплантологов. Это сейчас РНПЦ трансплантации органов и тканей на базе «девятки» — одно из ведущих медучреждений республики, стоящее у истоков внедрения в Беларуси множества сложнейших передовых технологий не только в трансплантации, но и практически во всех сферах медицины. А в ту пору в успех первой в стране трансплантации печени верили единицы.
— Энтузиазм и надежды привлекли в нашу команду молодежь. Мы не могли предложить им ни премий, ни доплат, ни каких-то иных стимулов. Единственное, чем увлекали ребят — обещание, что войдут в историю. Так и вышло, — вспоминает Александр Дзядзько.
Женя горел идеей первой трансплантации. На обучающих курсах в Ганновере, где отметил 30-летие, жадно впитывал информацию.
Заведующий отделением анестезиологии и реанимации № 4 (с палатой пробуждения) 9-й ГКБ Минска Андрей Минов, тоже участник легендарной команды, вспоминает:
— Наша часть группы обучалась в Берлине. Как-то на выходных решили навестить коллег в Ганновере: узнать, как стажируются они, да и достопримечательности посмотреть. Вышли с Женей из клиники и отправилась на прогулку по городу.
Идея будущих операций так вдохновляла, что мы 5 часов без умолку обсуждали нюансы и перспективы. Стоит ли говорить, что ничего вокруг не видели. Были поглощены предстоящей масштабной работой. И верили в успех.
…В Минск наши ребята вернулись не с пустыми руками: везли специальные катетеры, испарители для наркоза (нужен был особый, чтобы исключить даже минимальное влияние на печень) — всего этого в стране тогда не было.
Через полгода состоялась первая в Беларуси трансплантация печени. Исход положительный. А через 2 недели выполнили вторую успешную операцию. Евгений и Андрей действовали сообща. Вместе работали и во время вмешательства, и после. Стояли, бывало, с книгой в руках: первопроходцам задавать вопросы некому.
Труд во спасение
Мальчик, страдавший от рака печени, уже окончил 1-й класс и забыл о страшной болезни. Радуется жизни и украинский ребенок, которому после трансплантации потребовалось еще 23 операции, но он живет. Перечислить всех спасенных невозможно. Тысячи людей получали второй шанс благодаря Евгению Сантоцкому и его коллегам из отделения анестезиологии и реанимации № 2. Более 1 000 пересадок почки, около 400 — печени (в т. ч. свыше 40 — детям), трансплантации «печень — почка», «почка — поджелудочная железа», сложнейшие вмешательства по пересадке легких (в них 80% успеха зависит от грамотного послеоперационного ведения)…
В 29 лет Евгению предстояло создать отделение реанимации для больных после хирургических операций. С этой задачей справился блестяще. Коллеги вспоминают, что любую ситуацию Оганесович мог разрулить без конфликтов, охотно шел на компромисс, будучи требовательным в работе и к себе, и к подчиненным, сумел стать для коллег объединяющим стержнем. Один за всех — и все за одного!
В первые годы организации службы трудился не покладая рук, не жалея сил и времени. На работу приходил в 7 утра, а домой уезжал в 9 вечера.
Не Лондоном единым
— Здравствуйте, Евгений Оганесович! Мы с вами лично не знакомы, но у нас есть общий товарищ — Саша. Хочу уехать на работу в Великобританию. Слышал, у вас там живет мама. Сможет меня временно приютить? — Владимир Алексеевец, нейрохирург РНПЦ неврологии и нейрохирургии, волновался, делая этот звонок. Да и на успех затеи не особо рассчитывал: Сантоцкий его не знал, с чего помогать постороннему человеку? Ответ на другом конце провода удивил.
— Сашу знаю хорошо. Приятно познакомиться с его другом. Конечно, попробуйте, желаю удачи. Записывайте адрес, — доброжелательно сказал Евгений.
Сам он, отлично владея английским языком и имея в лице мамы тыл в Туманном Альбионе, сделал выбор в пользу белорусского здравоохранения. Здесь видел свое призвание и высшую цель.
Но другим всегда был готов подсобить. Вот так просто помог человеку устроиться. Поскитавшись месяц в чужом городе, Владимир понял: без поддержки не обойтись. Мама Сантоцкого Ирина трудится в Лондоне акушеркой. С радостью приняла белорусского доктора дома. Буквально за руку водила, чтобы найти ему работу, а вскоре помогла снять квартиру и устроиться. И хоть оставаться в Великобритании Владимир не захотел, вернулся в Беларусь, об этом периоде своей жизни вспоминает с неизменной благодарностью.
Врач — не только специфические знания и умение отдаваться профессии (этим Евгений Сантоцкий обладал в высшей степени). Это еще особый склад характера и отношение к жизни: милосердие, сострадание не только к пациентам, но и ко всем людям, с которыми сталкиваешься каждый день. Евгению Оганесовичу постоянно звонили по мобильному с просьбами о помощи, частенько он и не знал, кому именно оказывает услугу или дает консультацию. Но раз человек нашел его номер и обратился, считал долгом сделать все от него зависящее.
…Из зарубежных поездок и командировок Евгений всегда привозил коллегам магнитики и сувениры. Любил дарить радость. А вот несправедливости, слез не переносил. Чуткий и отзывчивый человек, не проходил мимо, если могло понадобиться его участие.
Старшая медсестра отделения Виолетта Виноградова вспоминает:
— Однажды я сидела в сестринской за компьютером и набирала дипломную работу. 120 страниц, полгода интенсивного труда. Вдруг появился какой-то вирус и буквально за секунду уничтожил все записи. Сидела и рыдала за столом. Больше сделать ничего не могла. В кабинет зашел Евгений Оганесович (мы тогда еще не работали вместе), узнал, в чем дело.
Возился с компьютером около полутора часов, но достал всю информацию, до последней странички. Моей радости не было предела. А ведь тогда мы даже особо и не общались!
На стажировке в Ганновере. 2007 год.
ИЗ УСТ КОЛЛЕГ
>> Ольга Радюкевич,
заведующая отделением анестезиологии и реанимации РНПЦ травматологии и ортопедии:
— С Женей нас связывали дружеские и профессиональные отношения. Он был важным человеком в нашей большой анестезиологической семье, абсолютным флагманом в области почечно-заместительной терапии в стране, читал лекции по этому вопросу в РНПЦ трансплантации органов и тканей. Послушать и поучиться у него приезжали из всех уголков Беларуси.
Когда в нашем центре была сложная пациентка, впервые поставили аппарат для проведения почечно-заместительной терапии. Опыта не было. И все 5 дней по любым, даже мелким вопросам звонили Жене. Он терпеливо объяснял нюансы. Процедуру провели успешно исключительно благодаря его советам.
Последний раз мы виделись на конгрессе по анестезиологии в Лондоне. Совершенно случайно встретились на Тауэрском мосту, заглянули в паб. Он был простой и контактный, общаться с ним всем было легко. Запомнилось, что в неформальной обстановке всегда говорил о своей семье…
>> Владимир Мартов,
заведующий отделением анестезиологии и реанимации Витебской городской клинической БСМП:
— С Жениной подачи я стал ездить в Минск читать лекции на кафедре трансплантологии. Он сам был захвачен этим делом, вовлек и меня. Когда приезжал в столицу, останавливался у него, он как радушный хозяин принимал меня без всяких вопросов. Намеревался переночевать у него и на той злополучной неделе…
Он не знал ни эмоционального, ни профессионального выгорания. Человек был на своем месте. Это чувствовалось. Его привлекало новое. Все, о чем ни спроси, он уже читал, или опробовал, или знает, где посмотреть. Такой задел, потенциал! И все это рухнуло. Случайно, трагично. Просто катастрофа.
«Медицина — это точный механизм с большим количеством порой невидимых глазу составляющих, развешенных на тоненьких серебряных нитях…» Теперь эти нити нужно связывать заново…
>> Максим Катин,
и. о. заведующего отделением анестезиологии и реанимации № 2 (хирургия) РНПЦ трансплантации органов и тканей:
— Женя был уникальным врачом. Все, к чему он ни прикасался, приводило к позитивным результатам. Административную карьеру начал очень рано, имея всего 5 лет стажа. Стал заведовать отделением, которое обеспечивает интенсивную терапию пациентов после трансплантации. Совпало это с развитием республиканской программы, поэтому можно понять, какой огромный груз ответственности лег на Женины плечи. Несмотря на то, что работала команда, он отвечал в ней за каждого. Не знаю, видел ли он семью в первые годы профессиональной деятельности. Ведь постоянно находился здесь, с пациентами.
В отделении подтягивал всех, чтобы любой врач мог обеспечить послеоперационную интенсивную терапию пациентам после трансплантации. У него были свои научные разделы, которые вел: заместительная почечная и печеночная терапия, интенсивная терапия пациентов после больших операций (в первую очередь, резекции печени, панкреатодуоденальные резекции, вся серьезная онкопатология, затрагивающая печень и смежные органы).
В бытность Жени заведующим проводили революционные для нашей страны вмешательства, за которые не брались в других клиниках. Они были продолжительные, объемные. Например, гипотермические резекции печени, когда орган извлекали, промывали специальным консервирующим раствором, охлаждали, бескровно удаляли его часть, потом все остальное пришивали.
Сложность анестезии — обеспечить жизнедеятельность пациента во все периоды операции, особенно пока находится без органа какое-то время; гладкое течение реперфузионного периода, когда печень заполняется кровью. Но самой трудной была интенсивная терапия: могли страдать функции дыхания, кровообращения… Задача Жени — определить стратегию лечения.
Своеобразным вызовом до сих пор остаются комбинированные трансплантации. В принципе каждый орган, будучи пересаженным отдельно, в послеоперационном периоде продолжает жить по собственным законам. Иногда они сильно разнятся. Надо обеспечить баланс, чтобы оба органа работали хорошо.
Особняком стоит трансплантация легких. К ней пишутся индивидуальные протоколы анестезиологического обеспечения и послеоперационной интенсивной терапии, так же, как и к педиатрическим трансплантациям. Со всеми этими задачами Евгений справлялся безукоризненно.
>> Олег Руммо,
руководитель РНПЦ трансплантации органов и тканей, доктор мед. наук, профессор:
— Мне горько говорить о Жене в прошедшем времени. Молодой, амбициозный, трудолюбивый. Талантливый организатор: сумел создать и возглавить сложнейшее отделение по выхаживанию пациентов после трансплантации. За 8 лет работы в должности заведующего не одну сотню раз вытаскивал самых тяжелых, казалось бы, безнадежных больных. Заменить его невозможно.
Женя — настоящий мужчина. Человек, способный отвечать за свои слова, поступки. Компанейский, дружелюбный. Никогда не занимался сплетнями, не охотился за славой. Просто целиком отдавался работе.
Невыносимо тяжело осознавать эту потерю.
>> Алексей Щерба,
заведующий отделом трансплантологии (трансплантации печени и гепатобилиарной хирургии) РНПЦ трансплантации органов и тканей, кандидат мед. наук, доцент:
— Евгений был настоящим профессионалом, прогрессивным и компетентным, ответственным. Формального подхода не признавал. В любой ситуации старался помочь максимально, всеми известными способами. Его отделение стало проводником для мировых стандартов интенсивной терапии в Беларуси. Многое, чего мы касались в нашей работе, было новым для страны. Женя не стоял на месте, искал и внедрял современные методы и технологии лечения. Вместе с ним мы прошли путь от создания отделения интенсивной терапии для хирургических больных до выхода его на передовую белорусского здравоохранения.
Вспомнить о том, что он кого-то спас, — упростить его вклад до нельзя. Сотни тяжелейших больных вытянуты его талантом и искусством. С Женей мы дружили, общаться с ним было всегда комфортно и приятно. Обязательный, пунктуальный, порядочный человек. Настоящий Друг и Врач.
>> Александр Дзядзько,
руководитель отдела анестезиологии и реанимации РНПЦ трансплантации органов и тканей:
— Женя был моим учеником. Я называл их с Андреем Миновым моими крыльями. Как у птицы, у нашей службы их два: анестезиологическое пособие во время операций — вотчина Андрея, выхаживание послеоперационных больных — Жени. Сейчас птица осталась без крыла.
Евгений — яркий пример того, что и у нас работает система профессиональных и социальных лифтов. Он пришел к нам молодым пареньком, интерном, быстро включился и захотел быть частью нового ответственного дела.
Я видел, что на него можно рассчитывать. Парень ответственный, очень энергичный, самоотверженный, с хорошей подготовкой, оперативным мышлением. Научиться этому сложно, требуются задатки. Они у Жени были. Это показало и время: он бесконфликтно решал самые сложные вопросы.
Сантоцкий блестяще справился и с задачей организации отделения нового типа. Ему были предоставлены все возможности для творчества. Их реализация привела к тому, что появились впечатляющие результаты лечения. Стали поправляться такие пациенты, которые раньше не выживали: с тяжелыми полиорганными нарушениями. Так, в центре проходит лечение уже четвертый японец, приезжали на операции из Израиля, Австрии, всех бывших постсоветских стран.
Освоена и поставлена на поток трансплантация печени, где помимо сложной хирургии и предоперационной подготовки важна именно интенсивная терапия. Результаты здесь у нас на уровне европейских и даже мировых центров. Выживаемость — порядка 95–96%, одна из лучших в мире.
Поскольку для трансплантации печени потребовалось много нововведений, технологий, которых раньше не было, появилась возможность применять их и в других областях. Сюда госпитализировали и пациентов нетрансплантологического профиля: начиная от неврологических нарушений, заканчивая тяжелыми осложнениями после операций, акушерских пациенток, детей после пересадки.
Постоянное совершенствование и профессионализм позволили приступить к трансплантации легких.
Видя результаты, в центр потянулась творческая и активная молодежь. Мы никогда никому не отказывали. И Женя в этом плане был одним из самых инициативных. Он подготовил курсы по почечно-заместительной терапии для широкого круга врачей.
«На Сантоцкого» приезжали из всей Беларуси. Считаю 10-летний период, когда Женя работал со мной, одним из лучших этапов в жизни нашей больницы. И Женина роль всем была видна и важна. Большой авторитет в ряде разделов интенсивной терапии, неформальный лидер, с ним советовались.
Думаем организовать стенд его памяти, а также учредить премию имени Сантоцкого.
Светлая память коллеге, ученику и другу!
Источник: medvestnik.by

 — Привет! Все хорошо? Кофе будешь?
— Привет! Все хорошо? Кофе будешь?